



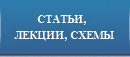
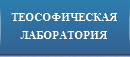

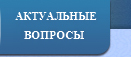
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Из-за моря, из-за синего океана"[1](От Нью-йоркского корреспондента "Правды ")
I Европейцы и американцы. — Знают ли в Европе американца. — Характеристика истого янки. — Как относятся в Америке к русско-турецкой войне? — Учение Монрое. — Политические взгляды американцев.
Во всех странах света, — кроме Соед. Шт. Америки, — народы проходят по избитой дороге жизни более или менее благоразумно. Так, например, немец родится, живет и умирает чинно и прилично, варьируя монотонность бытия лишь бочками пива да выказывая при случае свою долю патриотизма в хорах Гаудеамуса и "Wacht am Rheina". Тевтон со дня рождения до минуты смерти скромно ползет по жизненной тропе. Появление его в юдоль плача приветствуют улыбками розовой Минхен, смерть — слезами побледневшей Лизхен. Какова бы ни была его прошлая жизнь, приличие заставит почти в каждом случае начертить на надгробном памятнике традиционное повествование потомству о "добром муже", "прекрасном отце" и "доблестном гражданине"; а прохожий — также из приличия — редко позволит себе усомниться в правдивости надписи. Уроженец de la Belle France — антипод немца по характеру, устроив хронометр жизни с будильником для периодическо- политических волнений, дабы они не застали его врасплох, ни в коем случае, однако, не позволит себе неглижировать дорогим сердцу ego; скача на одной ножке, вприпрыжку, от одной революции до другой, он все же скачет осмысленно и рассудительно, хотя и по—своему. Он думает о завтрашнем дне и не забудет ни ежедневного petit verre d'absinthe, ни Беранжеровского lait de poule Бабетты, ни ночного колпака в случае простуды. Француз, как и немец, проявляет амбицию на лестный некролог, хотя бы только на могильной плите. Англичанин — стоит на полдороге между немцем и французом. Уж самый его феноменальный эгоизм — отличительная черта нации — служит всем порукою, что он ни на один день не позабудет ни собственных, ни отечественных "интересов". Сын Альбиона быстро шагает вперед, раздавливая под широкой ступней слабейших и круто и ловко поворачивая "налево кругом", коль скоро представляется необходимость. Немцы, французы, англичане живут для будущего столько же, сколько и для настоящего. Но американцы — чистокровные янки — это ягода совершенно другого поля... Чем более я читаю отечественных и прочих европейских журналов, тем более я убеждаюсь, что северный американец, т. е. самая достопримечательная амфибия Нового Света, совершенно незнаком его кузенам на "той стороне пруда". Европеец судит об янки — воображает, что имеет право судить об нем по бесчисленным экземплярам туристов с этого полушария, постоянно снующим по земному шару. Но американцы за границей и американцы у себя дома — две совершенно различные штуки. Первый — в полном смысле слова хамелеон, окрашивающийся по самой своей природе и без малейшего усилия под цвет не только наций, но даже и той среды, в которой он — гость на час. В Париже янки делается французом; в Лондоне — чистокровным Джон Буллем. Насколько этот факт справедлив, свет может судить по юродствам, выкидываемым в настоящий момент экс-президентом Грантом и его семьей за границей. Грант, расставшись с Белым Домом, снова стал на уровень с последними гражданами Соед. Шт., он не имеет права ни на какие почести ни за границей, ни у себя дома. Даже во время царствования его в Вашингтоне газеты в силу свободы печати ежедневно обзывали его и часто весьма справедливо — вполне непечатными терминами, начиная от нелестных эпитетов вора и мошенника до... чего вашему воображению угодно. А теперь Грант, приняв учтивость императрицы Индии и королевы Великобритании за должную дань, позволяет себе дуться на принца Эдингбургского и нашу Вел. Кн. Марию Александровну за то, что они не уступили ему в театре на о-ве Мальте первого места... Над этим курьезом все здешние газеты хохочут. Итак, повторяю, американца надо видеть у себя на родине, в этом громадном и, на первый взгляд невинного пришлеца, "желтом доме", называемом Соед. Шт. Америки, дабы судить о нем, хотя с приблизительной аккуратностью. Широко раскрыты врата сего всемирного приюта и манят они постоянно и заманивают в пучину, зияющую за их пределами, всех нравственно кривых, слепых и хромых калек, бездомных Европы. И все это поселяется, женится, плодит детей и делается через несколько времени гражданами Северной Америки. Современный янки, поэтому, представляет из себя какой-то ненормальный состав из всех наций. В жилах его вы найдете кровь голландца, немца, ирландца, француза, испанца и даже кровь краснокожих индейцев подчас. Потомки принцессы Покахонты, прелестнейшей дочери шефа индейцев Виргинии, которая спасла жизнь капитану Смиту в 1607 году и вышла замуж за капитана Рольфа, у нас весьма многочисленны и гордятся своим происхождением не менее потомков голландских Кникербокеров (Knickerbocker), аристократов Нью-Йоркского штата. Понятно, что кровь первых сэтлеров Нового Света, строгих английских и шотландских пуритан почти совершенно иссякла в современных поколениях. Американец последней четверти XIX столетия просто-напросто какая-то olla podrida, в состав которой входит и голландский сыр, и кайенский перец, и рыбий клей, и нитроглицерин, преобладающий преимущественно во всех политических и сердечных трансакциях американских граждан. Оттого янки столь резко и отличаются от своих европейских прародителей. И поэтому самому он вместо того, чтобы ползти, как немец, прыгать, как француз, или хотя бы просто шагать, как кузен его англичанин, стремглав несется вперед, бешено и безостановочно увлекаемый вихрем жизни. Без единой мысли о будущем, забывая прошлое и живя лишь в одном настоящем, он не ведает преград, не замечает опасности, не верит в возможность неодолимых препятствий. Громадные состояния наживаются в несколько дней, исчезают, как пустой призрак, в несколько часов. Миллионер вчерашнего дня сегодня либо сидит в тюрьме, либо просит подаяние, а нищий, которому я час тому подала милостыню, через неделю может раздавить меня в центральном парке под колесами одной модной баруши и копытами тысячных рысаков. Индивидуальных, собственных принципов, либо самостоятельных воззрений ни в мире политики, ни в мире религии, ни в общественной, ни даже в домашней жизни у него положительно нет; а те, которые имеются налицо, суть коллективные воззрения той или другой партии, к которой он на то время принадлежал. Имя этим партиям — легион, и каждая из них (вне области чистого барыша, впрочем) служит центробежной и вместе центростремительной силой. Знаменитый в Англии, как в Америке, символ общества, метафорически именуемый старой мистрис Гренди, т. е. Фэшьон, респектабельность и "общественное мнение". Значение последнего, однако, для каждого имеет вес лишь в среде собственной его или её партии. Имя "публики", достойной этого названия, простирается в их глазах лишь от центра до окраин магического круга, очерчивающего каждое гнездо партизанов. Вне этого заветного волшебного круга, что бы ни говорила другая партия, сколько бы ни кричали враждебные газеты, для нашего янки все трын-трава. Для него порицание всего остального мира представляется лишь каким-то глухим отдаленным жужжанием летней мухи, бессильным ворчанием того, что древние греки называли οί πολλοί — неумытой чернью. Прибавьте к этому, что престарелая мистрис Гренди, вращаясь единственно вокруг золотого тельца, сама мало заботится о внутренней гнили своих верноподданных, любуясь лишь на одну наружную позолоту сих лучезарных любимцев; что вследствие этого все фавориты её — калифы на час и что, появляясь и исчезая на горизонте миллионов с быстротой падающих звезд в каникулярную ночь, уважение к доброму мнению даже собственной партии может удерживать этих баловней счастья только на самое короткое и неопределенное время, — и вы получите ключ к тайне, почему нигде в мире не происходит таких общественных чудес, как в Соед. Шт. Америки. В области религии американцы столь же неблагонадежны, как и в политическом и коммерческом мире. Перепрыгивая с легкостью и упругостью резинного мячика от одной партии к другой, американец так же легко перескакивает и от одной конгрегации к другой. Он не принадлежал бы ни к одной из них, если бы только не считалось "респектабельным" быть членом одной из многочисленных "деноминаций". Поэтому сегодня он баптист и республиканец, завтра — методист и демократ, через несколько дней смотришь — и он приписался к епископальной церкви. — Зачем вы бросили церковь д-pa M., м-р С***? — спрашиваю я раз у знакомого и богатейшего маклера. — Разве баптисты лучше епископалианцев?.. — Право, не знаю, лучше ли они или хуже, — последовал хладнокровный ответ. — По-моему, оба эти пастора — humbugs (sic) (шарлатаны, мошенники — по-нашему). Но, видите ли, церковь д-ра М. вся в долгу, и уже предъявлено на сумму около 250 000 долларов векселей. На днях ее должны продавать с молотка... Каждое воскресенье надоедали с просьбами о контрибуциях. Да к тому же, баптисты ближе к моему дому... да и семейство партнера моего перешло от методистов к баптистам, — так уж заодно. Резон и вместе с тем образчик религиозного чувства янки. Как мало Россия знакома с Америкой, как превратно и поверхностно даже ваша пресса судит иногда о ее политике, может быть показано в двух словах. Не говоря уже о ясно выраженной надежде в некоторых частных письмах от весьма влиятельных лиц иногда — на возможность в будущем оборонительного и наступательного союза России с Америкой, мне случалось находить подобные намеки даже в московских и петербургских газетах, особенно в начале войны. Именно подобные фальшивые воззрения моих соотечественников, почти общее невинное убеждение, будто Америка симпатизирует русским, и, наконец, полное неведение о том, какую предательскую роль коммерция Соед. Шт. играла здесь исподтишка во время войны, и поселили во мне полную уверенность, что для русских Америка с ее конституцией, политикой, нравами и обыденной жизнью, — в полном смысле слова, terra incognita. Начнем с главного. Америка не может — да хоть бы желала этого сама! — не имеет права входить в союз с какой бы то ни было державой. Неужели у вас в России не слыхали о так называемом "Monroe Doctrine"?.. Более пятидесяти лет прошло с тех пор, как эта "доктрина" или, скорее, этот единодушно принятый тацитный закон постоянно брал верх над симпатиями народа. Далее постараюсь указать несколько поразительных примеров из истории Америки. Всей Европе более или менее известно, что, начиная от 1823 года, политика Соед. Шт. в ее отношениях с иностранными державами всегда придерживалась абсолютного строгого "нейтралитета". Причина этого следующая: тотчас после признания в 1822 г. независимости Мексики и провинций Южной Америки президент Соед. Шт. Джеймс Монрое представил на рассмотрение конгресса план, в котором предлагалось, во 1-х, не допускать европейских держав ни под каким предлогом вмешиваться во внутренние дела Нового Света и, во 2-х, так же строго воздерживаться самим от вмешательства Соед. Штатов в какие бы то ни было распри в Европе. Эта политическая черта и зовется здесь "Монройской Доктриной". Она была послана Монрое в ежегодном "президентском послании" (message) конгрессу 2-го декабря 1823 года[2]. Раз принятая, она сделалась ненарушимым законом. Для уничтожения ее потребовалось бы уничтожение самой конституции, погром страны — революция: а до того много еще воды утечет, потому что если у северных американцев может что-либо назваться священным и неприкосновенным, то это конституция 1797 года. Но мудрость и прозорливость этого великого государственного человека, президента Джеймса Монрое, была тогда же единодушно признана, и последующие события в мире политики вполне доказали американцам, как умно они поступили, сделав эту "доктрину" равносильной закону. В ней указывалась и необходимость нейтралитета уж по самому географическому положению Нового Света. Разделенные от остального мира целым океаном, Соед. Шт. Америки не могли, во-первых, иметь никаких общих интересов с европейскими державами, а затем это самое изолированное положение служило бы им в случае вмешательства величайшей преградою к выставлению войск. В каждом случае оно бы повлекло за собой страшные расходы людьми и деньгами, в то самое время, как не раз эта игра во вмешательство, "ne vaudrait pas la chandelle"'. Вот почему "Монройская Доктрина" осталась в силе. Быть может — и даже в действительности так, — доктрина эта представляет собой верх эгоизма; но как всему человечеству, так и американцам она до сей поры приносила очевидную пользу. Сравните с ней захватнические тенденции Англии, которая, притаившись среди морей, как гигантский полип — "Черт-рыба", и растопырив радиусом лапы с сосцами по всем направлениям земного шара, безустанно захватывает малые, как и большие добычи, тотчас же метаморфизируя каждую в "Британский интерес" — и затем судите сами, которая из этих двух политик выгоднее для человечества. Америка говорит: "Не тронь меня, не лезь ко мне, и я тебя не трону, и к тебе не полезу". Выгода обоюдная. "Tout pour moi — rien pour les autres!"— рычит Англия. Америка, положим, и добавляет: "Пусть они себе в старой земле хоть все до одного горло перережут"... А Англия — предлагает для операции острейшие бритвы собственного изделия и очищает карманы побежденных "покойников", часто сама оставаясь в стороне. Политика Монрое выяснилась во время борьбы Греции за независимость, когда, несмотря на горячую единодушную симпатию к этому храброму народу, Америка и пальцем не пошевелила: она заявила всю силу свою и в то время, как Венгрия восстала против Австрии, и Кошут силой необычайного красноречия чуть было не произвел революцию в стране в пользу своего народа. Вся американская нация, как один человек, поднялась против Австрии; Кошута допустили уже произнести спич перед конгрессом, и была минута, когда многие чувствовали себя уверенными, что пылкий патриотизм венгерца словно воспламенил всех членов конгресса и что Соед. Шт. окажут пособие угнетаемому народу. Но уважение к полувековой политике победило индивидуальную симпатию — и Кошут не успел в своей миссии. То же самое мы видим теперь в отношениях Северной Америки к острову Куба. Граждане из кожи лезут помочь кубанам, снабжают их и деньгами, и оружием (конечно, секретно). Народ громко заявляет братскую симпатию, и правительство с затаенным чувством лучших пожеланий инсургентам остается все-таки непреклонным и по наружности хладнокровно взирает на этот смертельный поединок между Кубой и Испанией. Конгресс молчит — и Монройская Доктрина остается ненарушенною... Скажем более, эта "политика невмешательства", так сказать, хуже инстинкта брала верх в сердце государственных людей Соед. Шт. долго еще до появления ее в Монройском послании. Америка была многим обязана Франции в деле своей независимости: Франция помогала ей против англичан, и, когда вспыхнули революция и террор в самом начале административной карьеры генерала Вашингтона, вся американская нация была за французов и против англичан. Но это не помешало "Отцу Америки", когда вновь явившийся от французской республики посол Жене почти взбунтовал граждан Соед. Шт. в пользу Франции, потребовать от правительства последней удаления опасного патриота из пределов Нового Света. В то же самое время мы видим счастливый результат "доктрины" и в других отношениях: строго соблюдая неприкосновенность чужих владений, Америка требует такой же неприкосновенности и собственных территорий. Слова Монрое в его послании, советующие народу взирать на малейшую попытку со стороны европейских держав привить собственную систему правления к какому бы то ни было пункту нашего полушария, "как на прямую угрозу безопасности и миру Соед. Шт.", приняты буквально. Поэтому если было маршал Базен расположился в Мексике с армией и розовыми надеждами на императорскую корону для избранника Наполеона III, как статс-секретарь Стюард учтиво попросил его эвакуировать подобру-поздорову слишком близкую к вашингтоновскому кабинету территорию. Так как это случилось как раз после федеральной войны и Соедин. Штат, имели наготове миллионную армию, то будущий герой Метца и заблагорассудил удалиться восвояси без дальнейших безобразий. За "разбитые стаканы" заплатил бедный Максимилиан. Вот почему надежды неких русских — чистейшая утопия. Этот вынужденный нейтралитет не мешает, однако же, народу выказывать во время всякой европейской потасовки симпатию к той либо другой стороне воюющих. В начале настоящей русско-турецкой бойни наших янки положительно тянуло на сторону русских. Весть о переходе армии за Дунай была встречена с восторгом. Но вот явился слух о неудачах, о "жестокостях", о варварстве русских солдат. Явились агенты Аристархи-бея, греческого Иуды, предателя в Вашингтоне, а с ними и самодержный, всевышний и всемогущий доллар. Явились и англичане, наводнившие редакции, и ультрамонтаны, подстрекающие во имя папства ирландско-католические массы американцев. Ветер подул в противную сторону, и посыпался град лживых известий, клевет и журнальной ругани. И право, "было бы смешно... когда бы не было так грустно" сообщать следующий факт. Во все время этого газетного баши-бузукства ни один голос, ни иностранный, ни русский, не поднялся в защиту России и ее героев. Только двое нас, — сирот, заброшенных на этот чуждый берег, — некто С. Е. Шевич да я, написали несколько статей в опровержение. Но, к несчастью, сколько мы ни рвались в бой на стальных перьях, после двух-трех статей наших протестов и не принимали. — Надоели вы, значит, с вашим патриотизмом. Правда у нас ходит голая и из нее сапогов себе не сошьёшь, а за вранье платится щедро; потому — сенсация! — На этом мы оба и съехали. В России никому и в голову не придет, до какого злобного, чисто дьявольского лукавства доходили некие английские журналисты, занятые в редакциях Нью-Йоркской прессы, лишь бы только создать диверсию в пользу турок. Но вот... ветер снова подул в противоположную сторону. Получены известия о взятии Карса, Плевны, о целом ряде русских побед. Янки, покорные флюгера всякого вихря, отвернулись от Босфора и, обратив внимание на славянские берега, навострили уши и стали прислушиваться. Несколько дней тому назад, как бомбой, шлепнулась телеграмма среди биржевого и газетного мира об оккупации если не самого Константинополя, то окружающих его форпостов русскими! За нею другая — об изувечении телеграфов, прервании прямого сообщения с Лондоном и, вследствие этого, о жалко — бедственном положении протестантского Лойолы — Лайрда и о депеше его, вопиющей к Биконсфильду — "караул!... британские интересы режут!!!", о депеше, которая оставалась два дня в дороге и с тем дала русским возможность не дремать в продолжение этих знаменательных двух суток. Наступила минута остолбенения — затем сенсация. Чем-то веселым защекотало в горле хладнокровного янки, и раздался такой повсеместный, неудержимый, гомерический хохот, какого давно никто уж не слыхал. Смеялись все, от мала до велика, и всяк, кто был способен сообразить и вникнуть в суть дела. Смеялись русофилы, смеялись и туркофилы; хохотали обедающие в ресторанах и широко скалили зубы негры-половые; хохотали, словом, на улицах, в клубах, в театрах, на железных дорогах, богатые и бедные, умные и глупые. Три дня стоит стон от неудержимого хохота от запада да востока Америки. И ведь смеются не над несчастными османами, растерявшими свои туфли, а над британскими "интересами", над поражением "великих" английских дипломатов, потому что в душе американец ненавидит англичанина и, несмотря на кровное родство, желает ему всякой пакости. "Шах королеве"! — кричали они в эти последние дни друг другу, проходя по улице. "Мат — султану!.. Шах и мат Биконсфильди... Провалился великий Дизраэли — ура Горчаков и Россия!". Заревели граждане, как только раскусили всю важность известий. И при всем этом у них ни на минуту не является мысли ни о реках человеческой крови, залившей берега Дуная и долины Армении; ни о великом горе и убитой жизни старых матерей, жен, осиротевших детей; ни даже о торжестве святого правого дела, имевшего высокой целью освобождение миллионов братий их в семье человеческой из—под ига кровожадных гиен в образе человеческом — этих ослов во львиной шкуре, называемых турками! Нет, до всего этого им мало дела: во всем этом они видят лишь одно — ловкий "шах и мат" английскому кузену, ножку, ловко подставленную — a la янки — Горчаковым Биконсфильду; и воображаемые гримасы Джон-Булля заставляют его, нежного родственника "Дядю Сэма", буквально кататься со смеху! Что ж, радуемся и мы, хотя и немного иначе. Первым движением моим по объявлении, что русская армия все равно, что в Константинополе, что война, по крайней мере, с Турцией, вероятно, окончена, — был глубокий вздох облегчения — словно Казбек с плеч свалился! Вторым движением — столь же глубокое, хотя немое чувство благодарности Провидению, что хоть раз удалось в этом грозном мире предательской дипломатии правде и справедливости восторжествовать над ложью, лукавством и варварством. А третьим движением — откровенно признаюсь — явилось неудержимое желание заржать на радости и затем во все горло запеть пародию на известные куплеты 1812 года. "Дизраэли не до пляски, Растерял свои подвязки, И... кричит Годдем!" Но что еще лежит впереди... Какие ужасы, быть может, прикрывает непроницаемая, таинственная завеса будущего? Кто знает! К сожалению, "медиумы" одиннадцати миллионов спиритов Север. Американских Штатов на этот раз спасовали. О "будущем" все эти "оракулы" XIX ст. осторожно помалкивают. Ел. Блаватская. (Правда. — 1878. — 23 февраля (7 марта). — С. 1-4). Нью-Йорк, 1 (13) января
[1] Под этим заглавием одна из известных в Америке писательниц будет помещать в «Правде» свои фельетоны об американской жизни. ( Примечание редактора газеты «Правда») [2] Это «президентское послание» равняется «тронной речи» королевы и ее адресу в парламенте с той разницей, что королева английская сама обыкновенно присутствует при открытии ею, а президенты Соед. Шт., приготовив речь, посылают ее конгрессу, но сами отсутствуют. (Прим . авт.)
|
